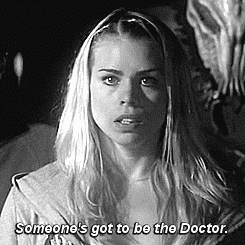

 , следовать указаниям, выполняя то, что должно, неделю за неделей (месяц за месяцем), готовить победу медленно и методично.
, следовать указаниям, выполняя то, что должно, неделю за неделей (месяц за месяцем), готовить победу медленно и методично.

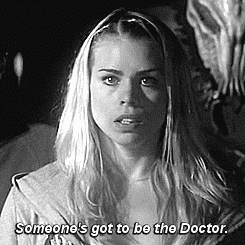

 , следовать указаниям, выполняя то, что должно, неделю за неделей (месяц за месяцем), готовить победу медленно и методично.
, следовать указаниям, выполняя то, что должно, неделю за неделей (месяц за месяцем), готовить победу медленно и методично.











 А теперь попробую написать собственно о содержании сериала (спойлерно).
А теперь попробую написать собственно о содержании сериала (спойлерно).



 , таким образом, не пытается выдать себя за реальность. Более того, повествование слегка подсмеивается над собой — что-то вроде модернистского обнажения приёма: так, молодой Казанова после очередной поразительно успешной и пошедшей всем на благо аферы говорит прямо в камеру: «It really begins to scare me». Центральный герой приключенческого произведения зачастую удачлив сверх всякой меры: он защищен от возможности не справиться с очередным препятствием внутренним законом самого жанра. Но вот — своей репликой «в сторону» Казанова ставит этот закон под сомнение.
, таким образом, не пытается выдать себя за реальность. Более того, повествование слегка подсмеивается над собой — что-то вроде модернистского обнажения приёма: так, молодой Казанова после очередной поразительно успешной и пошедшей всем на благо аферы говорит прямо в камеру: «It really begins to scare me». Центральный герой приключенческого произведения зачастую удачлив сверх всякой меры: он защищен от возможности не справиться с очередным препятствием внутренним законом самого жанра. Но вот — своей репликой «в сторону» Казанова ставит этот закон под сомнение.
